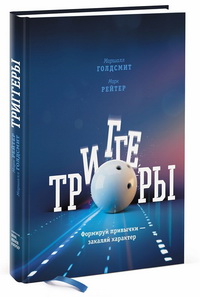Машины и люди: как перестроить капитализм в XXI веке
Источник: "Идеономика"
Цифровые технологии избавляют нас от множества рутинных задач и повышают нашу производительность. Но эти вроде бы чудеса оборачиваются большими проблемами. Что и зачем будут делать люди, если роботы занимают их место на рынке труда? Об этом пишет знаменитый теоретик медиа Дуглас Рашкофф (Douglas Rushkoff) в своей колонке для Future of Work1.

Дуглас Рашкофф
(Douglas Rushkoff)
|
В 1940-х годах, когда развитие компьютеров было еще в самой начальной стадии, «отца кибернетики» Норберта Винера тревожило, что эти «мыслящие» технологии могут означать для работников, которым придется когда-нибудь конкурировать с ними. Но его заботу о «достоинстве и правах рабочего» на технологизированном рынке посчитали симпатией к коммунистическим идеям, и Винера выдавили из основных экспертных и научных кругов.
Но хотя и сегодня это может показаться ересью, Винер понимал, что если мы не поменяем базовую операционную систему нашей экономики — саму суть и структуру занятости и оплаты труда, — новые технологии могут и не иметь того положительного экономического эффекта, на который мы надеемся.
Цифровые технологии одновременно обеспечивают бум производительности и приводят к потере рабочих мест, так что стоит задуматься об этой базовой операционной системе, в которой они работают. В этом случае мы, возможно, осознаем, что ценности индустриальной экономики вовсе не рушатся под нажимом цифровых технологий: скорее эти технологии выражают и укрепляют базовые ценности индустриализма.
Пора начать разговор, на котором настаивал Винер, и подвергнуть сомнению некоторые базовые принципы занятости. Нынешние тревоги о будущем труда могут вдохновляться ростом вычислительной мощи компьютеров и сетей или, скажем, монополизмом Amazon и Uber. Но корни проблемы гораздо старше, чем эти технологии — это механизмы, запущенные на заре промышленной эпохи, в XIII веке.
Индустриальная экономика запрограммирована на то, чтобы устранить людей из цепочки создания ценности. До наступления промышленной эры крестьяне столкнулись с колоссальным экономическим подъемом. Да, несмотря на характеристики, данные этой эпохе придворными историками Ренессанса, позднее Средневековье было временем бума. Крестоносцы только вернулись из своих походов и создали торговые маршруты, по которым теперь могли поступать товары из множества стран. Они также принесли с собой новые технологии сельского хозяйства и торговли, в том числе базар — рынок для обмена ремеслами, овощами, зерном, мясом, основанный на новых финансовых инструментах.
Крестьяне начали богатеть, обмениваясь товарами и услугами, а аристократия стала относительно беднее. Поэтому она вернула себе контроль над экономикой, запретив рынок денег и учредив монополии в определенных отраслях. Теперь местный сапожник, вместо того, чтобы производить сапоги самому, должен был устроиться на работу в такую монополию. Так появилось то, что мы называем «занятостью» — не возможность, а ограничение.
Теперь сапожник стал продавать вместо сапог свои рабочие часы — такими обязательствами ранее были связаны лишь рабы.
Более того, его навыки утратили свою ценность. Владельцы прото-фабрик увидели в промышленных процессах возможность нанимать более дешевых работников, у которых меньше инструментов давления на работодателя. Зачем брать квалифицированного ремесленника, если можно разбить весь процесс на крошечные шаги, каждому из которых можно обучить поденщика за 15 минут?
В этом смысле промышленная эпоха означала устранение людей из процесса создания ценности и монополизацию богатства на вершине пирамиды. Автоматизация снизила зависимость экономики от рабочих классов. Те задачи, что еще требовали человеческого участия, можно было передать тому, кто возьмется их выполнить дешевле других — в идеале в какой-нибудь далекой стране, чтобы трудности работников остались неизвестны для потребителя.
Единственный приоритет, на который были нацелены эти компании — это рост, потому что их собственная платежеспособность строилась на выплате процентов аристократам, а позднее — банкам. Но сегодня рост стал самостоятельной целью и двигателем экономики, а люди — препятствиями для ее функционирования. Если бы удалось устранить людей и наши специфически человеческие запросы, у бизнеса бы не было проблем со снижением издержек, увеличением потребления, извлечением все большей ценности и ростом.
Это наследие промышленной эпохи, когда чудотворная эффективность машин, казалось, открывает нам путь к бесконечному росту. Применение этих принципов в цифровую эпоху означает замену секретарей компьютерами, заводских рабочих — роботами, а менеджеров — алгоритмами. Когда цифровые компании «подрывают» какую-нибудь существующую отрасль, они создают лишь одно рабочее место взамен десяти, которые уничтожают.
Если мы хотим, чтобы цифровая экономика давала людям работу, нам нужно запрограммировать ее на нечто совсем другое. Мы станем свидетелями возрождения ремесла, ремесленного творчества и мастерства. Цифровой век поощряет производство на периферии и перераспределение богатств. Мы долгое время зависели от централизованных институтов, но теперь мы начинаем зависеть друг от друга.
Корпорации прошлого полагались на государственное регулирование, чтобы сохранить свои монополии. Сегодняшние цифровые компании добиваются этого благодаря монополизму самих платформ. Эти цифровые гиганты — не фабрики, но сети, чей встроенный код контролирует сам ландшафт, в котором происходит человеческое взаимодействие.
Uber — это софт, созданный, чтобы извлекать труд водителей и их капитал (автомобили) и превращать их в рост курсов акций для инвесторов.
Это не возможность обмена ценностью. Это, по сути, предварительная разработка будущей сети автомобилей-роботов, и нынешним работникам не предлагается никакой доли в собственности.
К счастью, у нас есть разные рецепты лечения. Эти решения будут набирать силу благодаря восстановлению контактов между людьми и переделке бизнес-планов в интересах людей, а не ради абстрактной стоимости акций. На первый взгляд большинство этих решений кажутся идеалистическими или даже социалистическими, но их берут на вооружение все больше компаний и сообществ по всему миру — и успехи заметны. Я рассматриваю многие из этих решений в своей новой книге. Среди них возможность поделиться с работниками выгодами от возросшей производительности — сократить рабочую неделю при сохранении зарплаты. Или борьба с перепроизводством путем учреждения гарантированного минимального дохода. Или возвращение старых концепций «субсидиарности», требовавших, чтобы работники владели средствами производства, а компании росли лишь до такой степени, какая требуется для выполнения их цели. Рост ради роста нужно дестимулировать.
Сегодня многие компании создают принадлежащие работникам «платформенные кооперативы» вместо монополистических платформ, что позволяет тем, кто вкладывает в предприятие труд или землю, получить такую же долю в собственности, как те, кто вкладывает только капитал.
Наконец, перераспределение благ новых технологий означает, что нужно признать хорошую новость: для людей будет меньше возможностей занятости. Мы должны помнить, что занятость, вполне возможно, лишь элемент старой системы, реакционная мера, принятая горсткой аристократов.
Если мы не приравниваем труд к «занятости», мы свободны создавать ценность новыми путями, каких не признает нынешняя рыночная экономика, основанная на росте. Мы можем учить, выращивать, кормить, заботиться друг о друге и развлекать друг друга. Проблема рынка труда — это не проблема дефицита, а проблема богатства. Пора научиться решать эту проблему.
По материалам "The Future of Work: Rebooting Work—Programming the Economy for People", Pacific Standard.
1 Future of Work — проект Стэнфордского университета, где бизнес-лидеры, ученые и другие мыслители делятся мыслями о будущем рынка труда.
|